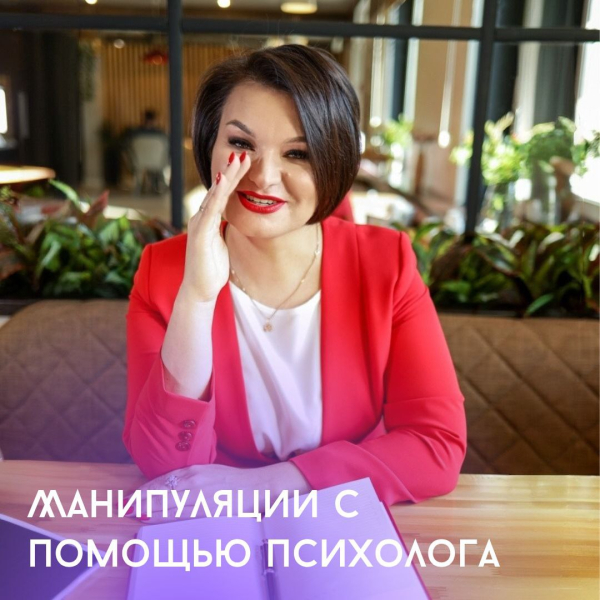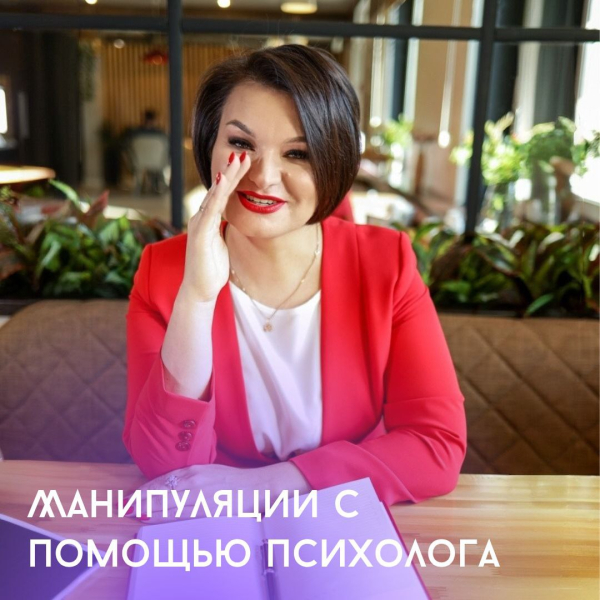
«Объясните ему, что он должен измениться!», – так может заявить девушка, записывая себя и своего молодого человека на парную семейную консультацию. «Объясните ему, что мужчина должен, должен, ДОЛЖЕН…».
Часто бывает такое, что один партнер как бы принуждает второго пойти к психологу с целью разрешения проблем в отношениях. Более того, пытается заранее вступить с психологом в коалицию, стараясь перетянуть его на свою сторону и найти в нем поддержку или дополнительный инструмент манипуляции партнером, используя авторитетное мнение специалиста. А бывает, что клиент посещает психолога в индивидуальной терапии и через какое-то время «приводит» партнера на семейную консультацию, и ожидает, что психолог поможет ему «продавить» его позицию, доказать партнеру, что он не прав и т.д.
В практике семейной психотерапии одной из наиболее распространенных и сложных проблем являются конфликты в супружеских парах, зачастую проявляющиеся в форме явной или скрытой борьбы за власть. Обратившись за помощью к специалисту, супруги нередко воспринимают источник своих трудностей исключительно в действиях и качествах партнера, упорно игнорируя собственную роль в создавшейся ситуации. Это ведет к тому, что каждый из них пытается изменить обстоятельства, воздействуя на другого, манипулируя ситуацией и, порой, даже самим терапевтом. Такие попытки могут быть как прямыми, открытыми, так и тщательно завуалированными, направленными на то, чтобы склонить терапевта на свою сторону и достичь желаемого результата с минимальными «издержками» для себя. Это представляет серьезную угрозу терапевтической нейтральности – основополагающему принципу эффективной психотерапии.
Однако, помимо этого очевидного риска, работа с супружескими парами сопряжена с целым рядом этических дилемм, которые могут поставить под угрозу не только нейтральность и эффективность терапевтического процесса, но и саму этику профессиональной деятельности психолога. Эти этические риски усугубляются сложностью межличностных отношений и скрытыми мотивами участников. Рассмотрим некоторые из них подробнее.
Во-первых, часто один из супругов пытается заключить тайный союз с терапевтом, используя индивидуальные сессии, проводимые в рамках общей супружеской терапии. Это может проявляться в передаче конфиденциальной информации о партнере, которую супруг намеренно не раскрывает во время совместных сессий. Например, жена может сообщить о скрытых доходах мужа, информация о которых не озвучивается во время парных встреч. Может писать тайные сообщения с просьбой «вразумить» супруга или «внушить» ему определенную мысль. И супруг может точно так же поступать в отношении жены. Другой распространенный метод – просьба «научить» воздействовать на партнера, манипулируя им или изменяя его поведение с помощью полученных от терапевта советов. Это является прямым нарушением принципов терапевтической нейтральности и может привести к искажению объективной оценки ситуации.
Во-вторых, переход от индивидуальной терапии одного из супругов к парной терапии также несет в себе этические риски. Эта ситуация может возникнуть, если первоначально один из супругов обратился за помощью индивидуально, и только после некоторого времени, по инициативе терапевта или одного из супругов, было принято решение о вовлечении партнера в терапевтический процесс. В такой ситуации необходимо тщательно взвесить все последствия и убедиться, что это решение не усугубит конфликт или не будет использовано одним из супругов в своих интересах. В своей практике я сталкивалась со случаями ожидания клиентов, что я займу их сторону в семейной консультации, и с последующим их разочарованием, когда они видели мою нейтральную позицию. Сейчас я стараюсь проговаривать позицию нейтральности психолога в парной сессии заранее, уже в момент планирования ее проведения, предупреждая, что я буду объективна и беспристрастна, а также проговариваю это правило непосредственно в начале консультации.
В-третьих, наиболее сложным и деликатным вопросом является переход к индивидуальной терапии одного из супругов после принятия решения о разводе. В таких случаях инициатор развода часто использует совместную терапию для подготовки к разрыву, словно «передавая» второго супруга терапевту для «утешения» или эмоциональной поддержки после расставания. Это ставит терапевта в крайне сложное положение, требуя от него безупречной этической позиции и способности избежать манипуляций. Мне помнится, когда со мной впервые случилось такое, я не поверила своим ушам, когда на семейной консультации услышала запрос, смысл которого звучал примерно так: «Объясните ей, пожалуйста, что она может быть счастлива и без меня!». Я растерялась, не скрою. Это неконструктивный, манипулятивный запрос, который несет клиент, стараясь переложить свою ответственность на плечи психолога при расставании.
Наконец, смена формата терапии, будь то переход от парной к индивидуальной или наоборот, поднимает важный вопрос о конфиденциальности и обращении с информацией, полученной от каждого из супругов. Терапевт должен соблюдать строгую конфиденциальность в отношении всего, что ему было сообщено, и при этом не допускать ситуаций, когда информация, полученная от одного супруга, может быть использована против другого. Это требует от терапевта высокой степени профессионализма, острого этического чутья и глубокого понимания динамики супружеских отношений. Нарушение этих принципов может нанести существенный вред не только терапевтическому процессу, но и самим участникам, усугубляя и без того непростую ситуацию.
Поэтому психолог должен постоянно анализировать ситуацию, осознавая потенциальные этические риски и принимать решения, ориентируясь на принципы профессиональной этики и благополучие клиентов.
С уважением, психолог Маргарита Шишмакова
Записаться на офлайн- и онлайн-консультацию можно по телефону +79148315949 и мессенджерам WhatsApp или Telegram.